Настигло
09 May 2025 17:48
Кто лучше достигает целей Ч.2
Та, кто уже решилась и ступила в процесс изменений, находится уже в другом положении. Внутри и снаружи происходит много нового, меняется ощущение личности, формирует взгляд на мир. В этом процессе требуется опора, чтобы осторожно, но уверенно продвигаться все дальше и дальше. Держать темп, помнить про направление, одновременно собирая и укладывая много нового опыта в психику и тело.
Такие люди могут быстро ставить цели, потому что многие из них уже видны им на расстоянии вытянутой руки. Может показаться, что цели поверхностные. Но на самом деле такие клиенты используют цели как скалолаз выемку в скале. И часто в работе они учатся отказываться от этих «опорных» целей и ставить новые: более далекие, глубокие и менее очевидные.В активном процессе трансформации и ты сам и твое мышление морфируют — нужно уметь отпускать уступку в скале, когда пора подниматься выше.
Те, кто приходят на стадии, когда трансформация почти завершена — могут быть уже такими усталыми и запутавшимися, что им кажется, будто ничего не получается, все было зря, и вообще они ошиблись. На деле у них за плечами огромный накопленный опыт изменений, который важно осмыслить, оценить, упорядочить — и позволить себе принять, присвоить пройденный путь трансформации. Ощутить себя теми, кем они уже стали за период трансформации.
Такие люди могут осторожно и даже несколько пессимистично ставить небольшие цели — а потом внезапно быстро совершать качественный скачок и добиваться того, во что они даже не верили, начиная работу (хотя чего тайно хотели).
Наконец, человека, уверенно стоящая на присвоенном себе этапе, где все понятно и знакомо, где у неё большой контакт со своим ресурсом — может очень далеко смотреть в будущее. У неё есть достаточно времени и опоры. Ей может хотеться поговорить о целях на 10, 20, 50 лет, на цели поколений вперед, сформулировать желание повлиять на мир и общество за пределами своей жизни. Стоя на берегу, такая клиентка далеко закидывает удочку в поисках большой рыбы.
Тут я помогаю поработать над силой размаха и стабильностью работы со спиннингом. Планирование может быть одновременно масштабным и прагматичным, рациональным, достижение целей — системным.
Так будет, пока человек не почувствует, что плотный берег привычного растворяется под ногами под воздействием намерения, направленного в будущее. Тогда все заволакивает туманом и разверзается невидимая бездна новых возможностей и опыта — и мы снова оказываемся на первом переходном этапе.
Каждый этап очень интересен и может быть плодотворен в своем особом измерении, хотя со стороны они могут показаться очень разными по скорости и эффективности.
П.с. А так-то я люто ненавижу слово «эффективность» в контексте человеческой личности.
Читать полностью…
Настигло
07 May 2025 16:15
Проблемы с деньгами из детства Ч.2
Тогда мы мыслим дефицитом: всего мало, его очень трудно добыть, а чтобы получить что-то в одном месте — надо ужаться в другом. Новые возможности – это не способ получить больше, а еще больше напряжения и ответственности, ну спасибо, нет. Патологическая экономия парадоксальным образом может приводить к растратам (провоцируя закупать ненужные товары на скидках в промышленных масштабах) и упущенной выгоде: слепоте к возможностям легко повысить заработок (потому что такого не может быть никогда).
Сценарий 3, в котором взрослые справляются, в том числе облегчают себе жизнь с помощью морализации и определенной теории мира. Быть бедным из-за слепой судьбы, тяжелых обстоятельств и тем более собственной нерасторопности менее приятно, чем быть бедным благодаря своим высоким моральным качествам. Все богатые — плохие люди, а для нас главное — душа, правда, сынок? Хорошие люди всегда страдают. К честным деньги не идут. В общем, ты понел.
Человек с таким воспитанием может быть склонен не только закрывать для себя возможности заработка. Он будет многое терять из-за вытеснения денежной темы: пропускать своевременную оплату штрафов, выплату кредитов, решение денежных вопросов — чтобы как можно сильнее оттянуть необходимость подумать «плохие мысли о деньгах».
Вероятно, такой человек будет избавляться от денег, которые у него есть, под ноль. Кто-то называет это шопоголизмом – но там на самом деле совсем другая динамика.
При шопоголизме человек бежит от эмоций в потребительские развлечения и снимает напряжение дофаминовой разрядкой — покупкой часто ненужной вещи. В случае тревожного избавления от денег траты проходят как-то незаметно, деньги утекают сквозь пальцы, часто — на нужды других людей. Бенефит: продолжать оставаться хорошим не только потому, что бедный, но и потому что все отдал другим (и кстати, это не всегда полезно другим, так как часто делает их несамостоятельными, зависимыми, должными и тд).
Сценарий 4, в котором взрослые крутятся, как могут, но на рациональный уровень обращения с деньгами так и не вышли — и при этом саботируют попытки ребенка или уже подростка сэкономить или начать зарабатывать. Тырят у него деньги из копилки, разкрадают его заначки, тратят на какую-то свою псевдосрочную ерунду, никогда не возвращают. При этом вроде как бы и никто не голодает, в целом деньги добываются, поэтому ребенка резонно спрашивают: да и зачем тебе вообще эта копилка/свои деньги?
Человек вырастает с ощущением, что деньги и он существуют в параллельных вселенных, что деньги это «не про меня», это бесполезно, ну и на самом глубоком уровне — копишь-копишь, а копилку всё равно отберут, нечего и стараться. Особенно болезненным будет наложение на такую историю какой-то неудачи с уже взрослыми попытками накопить или вложить, которые подтвердят такой настрой.
Как итог. Что мы можем наблюдать в себе?
👻Избегание и отрицание денег от «не могу заработать» до «не могу удержать то, что заработала».
☠️Тревожность и страх перед деньгами, вплоть до отрицания этого вопроса, что может выходить боком.
💪Напряженная работа там, где можно было бы увеличить доход и в более гуманном темпе.
💰Иррациональная бережливость и патологическое накопительство.
🦢Измерение богатства и бедности моралью: от «бедные хорошие, богатые плохие» до низкой самооценки, выражающейся в низкой оценке своей работы и страх «стать плохой», попросив больше.
👑А также, конечно, обратный эффект: привязка самооценки к финансам и болезненная попытка починить самооценку в кошельке, а не в голове.
Как вы уже заметили, истории с деньгами – это всегда только маленькая часть истории отношений с собой, людьми и миром. Это не просто отсутствие финансовой грамотности или нехватка рационального мышления. Это симптом как минимум не отрефлексированных убеждений из прошлого, как максимум — не распутанных эмоциональных клубков из детства и подросткового возраста.
Такие дела. Узнали свою историю в каком-то из описаний?
Читать полностью…
Настигло
30 Apr 2025 15:22
Я и деньги: война Ч.2
Деньги на войне как бы это сказать — обесценились, что ли. Конечно, они очень важны, чтобы есть, поддерживать здоровье, создавать комфорт. Но только как база. Они не могут закончить войну, не могут спасти жизни людей, не защитят тебя и твоих близких — по крайней мере, не те деньги, что доступны сейчас мне.
Когда я начала собирать деньги на благотворительность, столкнулась с вообще крышесносным эффектом: ты собираешь суммы, которых никогда раньше не видела в жизни — тысячи, иногда десятки тысяч долларов. Тебя трясутся руки, ты боишься, что нажмешь кнопку – и они пропадут, исчезнут. Но спустя время экстаз проходит: война — это миллионы и миллиарды долларов, в контексте которых твои сборы — копеечные. 10 000$! До войны я бы умерла, управляя такой суммой. Сегодня я с грустной благодарность думаю, что это только треть стоимости одной машины скорой помощи. А одна скорая помощь нас всех от этого кошмара не спасет.
Есть неожиданный плюс: на этом фоне все остальные проблемы и задачи, на которые нужны деньги, больше не кажутся страшными или сложными. Когда ты уже держала в руках десятки тысяч долларов — такие суммы уже не кажутся чем-то потусторонним. Когда видела, как люди собирают такие суммы взносами по 10-100$, понимаешь, что главный источник денег — это люди, которые увидели важную для себя цель. Вот тебе и вся магия больших заработков: люди принесут тебе деньги, если это позволит им получить что-то важное. В случае с благотворительностью — это альтруистический смысл жизни, возможность менять мир, чувство принадлежности к чему-то большему, ощущение себя хорошими, чувство контроля в хаосе. Для меня больше нет и не будет вопроса о том, как я заработаю: для меня теперь это просто задача — местами техническая, местами творческая.
Мой опыт как будто замкнулся в шар. Я не боюсь бедности, потому что я там была, выжила и победила. Я умею сохранять деньги — и это помогло мне пережить очень тяжелое время. Но я и не боюсь отдавать и даже терять и даже выделяю бюджет, который я готова потерять на рисковых вложениях или отдать другим. Когда теряю — не чувствую ничего, кроме желания проанализировать и учесть. Деньги — это такой free spirit.
Богатство меня тоже не пугает: есть сотни способов сколотить состояние, сделать это подходящим тебе путем — снова таки просто задачка. Я сумела немного снизить уровень своей неприхотливости согласно своим взрослым возможностям: я не экономлю на еде, медицине и возможности сэкономить время, а также стараюсь выразить свое зрелое мироощущение в приятном мне внешнем виде. Я все еще считаю прекрасным лайфхаком не переходить без нужды в более дорогие потребительские сегменты, потому что шапка — это просто шапка, сколько бы нулей у неё не было; а вот в 10 раз более дорогую зубную пасту по настоянию стоматолога покупаю без сомнений. Мне нравится идея инвестиций во всякие предприятия — и я хотела бы воспользоваться опытом краудсорсинга в далекий мирный час на что-то более оптимистичное, чем противостояние войне. Я вижу деньги как возможность строить, создавать, получать и дарить новый опыт, менять жизни и всякое такое.
Не знаю, может быть, спустя время я найду каких-то незамеченных притаившихся за обоями сознания тараканов. Но, кажется, ту тему я прополоскала в своей голове сполна. Дальше — только жить и делать.
Ну и конечно, теперь время писать серию теоретических текстов о психологии денег, раз уж я взялась читать об этом книги. Так что если у вас есть какие-то вопросы про психологию денег и безденежья — пишите, я с удовольствием поищу на них ответы.
Читать полностью…
Настигло
12 Apr 2025 09:25
Хотите писать тексты искренне и смело? Найти в письме инструмент для понимания и выражения себя? Стать честнее и свободнее — и меньше бояться публикаций?
Через неделю стартует писательская группа рефлексии, в которой вы сможете найти всё это, а также получить поддержку без критики. Подходит для любого уровня владения навыком. Осталось 3 дня, чтобы присоединиться ко второму потоку писательской группы «Текстонавтика»: в понедельник я закрываю набор и готовлю группу к запуску.
Когда:
вечером по воскресеньям в 18:00 по Киеву
20 апреля — 22 июня
10 встреч
2,5 месяца
Подробности о программе и отзывы тут.
Осталось несколько платных мест. Оставить заявку на участе можно, заполнив анкету.
Читать полностью…
Настигло
09 Apr 2025 12:12
Я и деньги: мой первый бизнес Ч.1
Итак, 2019 год, мне 30, я получаю предложение от издательства на первую книгу. Мой наивный план обогатиться на книжке и прохлаждаться на дивиденды живет ровно сутки: я гуглю контракт с издательством. Начинающим авторам дают 6% от оптовой цены на книгу. Я злая и выбиваю в два раза больше. Больше — нельзя: «15% только для Харари!». Выиграть денег тут можно, только если написать мировой бестселлер. Я, конечно, высокого о себе мнения, но не настолько.
Я считаю: подготовка и рисерч займет полгода, текст — еще 4-6 месяцев. Несколько месяцев на редактуру и издание. И где-то год маркетинговой работы, чтобы хорошо продать тираж. Нет ни шанса, что эта работа окупится хотя бы в ноль.
К этому моменту я давно думаю про выгоду в неденежном эквиваленте. Есть сила денег, а есть сила известности: одна может переплавляться в другую — и обе они дают возможность менять мир (а может быть, известность дает даже больше). Я долго взвешиваю на весах детскую мечту о создании Ультимативной Книги Мудрости — и умеренно полезную, совсем не великую книгу, которую можно продать. Сдаю нарциссизм в утиль, беру презренную ширпотребную концепцию «книги-визитки» и решаю использовать её для популяризации важных для меня научных идей — и себя как эксперта.
Во время написания книги я встаю перед еще одним конфликтом: среди кого я хочу быть известной? Сначала мне хочется написать книгу, которая даст признание среди академиков или хотя бы научных журналистов. Потом понимаю, что это детские фантазии авторитетности: ученым не нужна моя книга — я могу помочь только людям, которые знают меньше меня. Так из-за вполне добросовестных размышлений я выбираю довольно выгодный материально путь к «широкому читателю».
К 30 годам у меня сложилось протестантская этика работы с примесью смм-логики: много трудись над тем, что полезно другим людям, тогда к тебе обязательно придет известность — и вот тогда ты каааак-то сможешь заработать. Это какая-то смесь религиозности из 1990-х и алгоритмических законов 2010-х.
Я закатываю рукава и работаю над текстом книги вечерами после рабочего дня редактора. У меня (как, впрочем, последние 5 лет) вываливаются глаза, от напряжения я не чувствую голода, пока мне не сунут под нос котлету, и усталости, пока не отрублюсь просто на ходу. Я думаю не о деньгах, а о читателях, которым я могу дать надежду, даже если ученые будут смеяться над банальностями, которые я пишу.
Год работы над книгой + год работы над её продвижением привели к результату. Её переиздают трижды в двух странах, а я официально становлюсь научной просветительницей и человеком, к которому обращаются СМИ с просьбой объяснить человеческое поведение с научной точки зрения. Меня зовут читать лекции в разных городах и платят за дорогу, ночевки в гостиницах и само выступление. Мне больше не надо ездить автостопом и ночевать на ободранных вписках, как было при работе журналисткой (хотя это прикольных опыт, не спорю). У меня появляется график лекций.
Наблюдая за спросом на себя, я вдруг нахожу ответ на мучительный вопрос «откуда берутся деньги»: деньги приходят или от компаний, которые хотят использовать тебя для увеличения своей прибыли; или от людей, которые хотят купить у тебя что-то полезное. Все предыдущие неудачи заработать наконец обретают смысл: я использовала модель «смотрите, какая я, возьмите меня работать» — но при этом не хотела работать на компании. Но я никогда не думала о второй модели, которую назвала «выращивать и продавать морковку людям».
[дальше ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
31 Mar 2025 14:04
Тут мне было бы интересно узнать, что именно вы пробовали, чтобы изменить своё положение: свой подход к деньгам и работе, свои установки и знания? Если вы можете поделиться протестированными гипотезами, это будет очень полезно!
Читать полностью…
Настигло
31 Mar 2025 13:56
Я и деньги: конец 2010-х и заработок умом Ч.1
Как только я начала зарабатывать иллюстрациями — поняла, что работа в коммерции не сможет решить вопрос моего благополучия.
Во-первых, у меня четкое понимание этики, которой, как правило, довольно сильно расходится с пониманием многих корпоративных заказчиков, на которых я бы могла заработать приличные деньги.
Во-вторых, вот есть в искусстве люди, которые увлекаются формой: им нравится создавать красоту, оттачивать мастерство — но им часто не хватает идей, и они только рады, когда появляется заказчик со своей идеей или что-то еще, что задаст рамки. Есть же те, у кого множество своих идей, которые касаются не визуала и техники, а философского посыла, социального или политического импакта — и они им дороги. В этом смысле я всегда была концептуально настроенной.
Меня быстро стало раздражать, что художественный талант в обмен на деньги должен обслуживать не просто чужие идеи вместо своих. В коммерции ты часто обслуживаешь вместо Идей ерунду всякую. Иллюстрировать СМИ было попритянее: там хотя бы были социальные и политические посылы. И мне безусловно нравилось работать в чистом арте: например, для балета нужно было иллюстрировать музыку, а не чужое ТЗ, да и на обложках книг можно было делать, что вздумается.
Вот в это время и стало понятно, что я могу зарабатывать текстами. Как? Я решила повторить ту же общую схему, которая вывела меня на заработок с иллюстрациями.
Я выбрала то, что мне интересно: религия, философия, психология. Запаковала эти темы в набирающий популярность язык поп-нейробиологии. И начала строить свою экспертизу: в 2016 написала первые нерешительные и кривые тексты в наше самиздат-медиа, в 2017 завела блог в тг — и стала пожирать все курсы, книги и учебники по нейробиологии, до которых смогла дотянуться. А чтобы меня перестали считать очкастой занудой, покрасила волосы в розовый цвет — мне хотелось выходить на широкую аудиторию и чтобы ей не было скучно.
Меня стали приглашать как автора в медиапроекты про здоровье и медицину, я стала подрабатывать в популярном «альтернативном» женском издании. И когда была готова, в 2017 году использовала все площадки, на которых работала, чтобы публиковаться с темами про мозг. Через год такой работы меня пригласили в более крупное медиа автором текстов про мозг, затем я стала там редактором, рекрутером молодых талантов и некоторое время поработала редакционным директором (чуть не сдохла). Мои тексты про мозг давали очень высокие рейтинги прочтений среди лонгридов, ко мне хотели пойти стажироваться студенты и начинающие журналисты, выросших под моим крылом авторов хантили в другие медиа.
Все это здорово звучит, но зарабатывала я немного. Если посчитать, сколько сил и времени уходит на то, чтобы самостоятельно стать экспертом в научной области и регулярно поддерживать уровень знаний, поглощая профессиональную литературу и исследования; сколько времени уходит на написание оригинальной статьи, а не позорного рерайта с английского — то окажется, что это вообще не окупаемая работа. Особенно с учетом того, что еще надо все время тратиться на переезды из страны в страну, потому что война и визовый режим.
Тексты не давали много денег, но увеличивали известность — это был единственный капитал, которым я умело пользовалась со школы. Я хотела расти, и если не в деньгах, то в славе: написать книгу по мотивам моего суперпопулярного текста про «дофаномику» — это был мой авторский термин, который кто-то даже просил разрешение добавить в какой-то словарь, не помню, что это было.
Если вы были внимательны, то могли заметить, что моё впахивание по художественной работе, по написанию текстов и работа редактором — происходили одновременно. Я, честно говоря, мало что могу вспомнить из того периода, кроме ощущения прилипшего к жопе стула и охуевших от монитора глаз.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
29 Mar 2025 09:08
Кейс: стать писательницей = стать собой Ч.2
В результате работы Виолетта научилась писать для себя, не отвлекаясь на тревогу о результате и реакциях на него. Стала использовать письмо для искреннего самовыражения и самоисследования. Во время писательского процесса начала переживать наслаждение вместо страха и самокритики. И обрела то самое желанное серьезное отношение к собственному творчеству, которому выделила постоянное место в жизни.
Так она сама описала разницу между ожиданями и результатом: «Чего я ожидала (больше от себя, чем от Насти) — это определения четко установленных факторов, которе мешали моей продуктивности, и избавления от всех этих препятствий одним за другим, решая проблему как логическую переменную. То, что произошло на самом деле, было беспорядочным, неаккуратным и сопливым процессом сначала встречи с собой, затем принятием состояния, в котором я находилась, — и только после этого разработкой способов работы с этим состоянием».
Через 1,5 месяца после окончания работы мы провели встречу, на которой Виолетта рассказала, что она полностью изменила своё изначальное отношение к творчеству, начав писать искренне и свободно о своем опыте. За этот срок она написала три текста, один из которых получил высокую оценку на канадском курсе creative writing, и начала работу над новым большим проектом. Но главное — она начала называть себя писательницей и ей с этим супер комфортно.
На одной из сессий Виолетта так описала нашу работу: «Медленно, тяжело, глубоко, ценно». — «Прямо как творчество», — подумала я.
Для меня работа с Виолеттой была похожа на экспедицию в волшебный лес: сначала в нем стоит напряженная тишина, а затем он раскрывается целой компанией разношерстных персонажей, духов и одушевленных процессов, показывая свою завораживающую, трогающую, вдохновляющую магию.
Читать полностью…
Настигло
27 Mar 2025 13:53
Разница между обучением и научением Ч.2
«По-видимому, обучение вселяет в человека недоверие к своему собственному опыту и разрушает значимое для него знание. Поэтому я почувствовал, что результаты обучения либо не важны, либо вообще вредны.
Когда я, оглядываясь назад, вспоминаю мое обучение в прошлом, кажется, что его истинные результаты аналогичны – мне либо был нанесен вред, либо ничего существенного не произошло. [...] Вследствие этого я понимаю, что мне интересно обучаться только самому, предпочитая изучать то, что для меня имеет смысл, что оказывает значимое влияние на мое собственное поведение».
Иногда думаю, что мне не повезло из-за того, у меня не было хорошей школы и учителей, что я не училась в магистратурах, не попала в настоящую академию, что у меня не было наставников, которые бы учили меня и помогали мне. Но чем дальше, тем больше понимаю, что получила свободу развития и необычный (иногда для кого-то странный) способ мыслить.
«Я нахожу, что один из лучших, но наиболее трудный для меня путь обучения – это отбросить свое собственное защитное поведение (хотя бы временно) и попытаться понять, как другой человек переживает свой опыт и какое он имеет для него значение. Я нахожу, что другой способ обучаться состоит в том, чтобы обозначить свои сомнения, попытаться прояснить неясные вопросы и таким образом приблизиться к смыслу нового опыта, который, вероятно, он на самом деле имеет для меня».
Это такое невероятно простое и неожиданное описание научения поражает до глубины души. Роджерс для меня тут проводит черту между двумя явлениями, которые мы часто путаем: пониманием и знанием. Мои размышления об этом начались с наблюдений за людьми, который много знают — то почему-то могут очень мало понимать. Я усвоила, что знания – не означают ни понимания, ни мудрости. Но почему? Здесь для меня Роджерс отвечает на это так: понимание рождается из осмысления опыта (это может быть и интеллектуальный, теоретический опыт) — в то время как знание может быть просто запомнено. Как будто мы вешаем на себя внешний по отношению к глубине сознания предмет: он вроде бы есть — но не является нашей частью.
«Весь этот поток опыта и открытые мной в нем смыслы, кажется, привели меня к процессу, который одновременно и очаровывает и пугает. Мне кажется, это значит позволять моему опыту нести меня дальше – вроде бы вперед, к целям, которые я могу лишь смутно различить, в то время как я пытаюсь понять по крайней мере текущий смысл этого опыта. Возникает такое чувство, будто плывешь по волнам сложного потока опыта, имея изумительную возможность понять его все время меняющуюся сложность».
Тут с фанфарами признаю, что этот человек описал мой способ быть и познавать себя и мир. Мне кажется, это вообще главное, что нужно знать про любую мою работу. Люди приходят ко мне за тем, чтобы вместе войти в этот поток, научиться в нем быть и позволить себе учиться от него.
Жизнь — это царство богатейшего опыта, даже когда ты просто сидишь на стуле, короче. У меня всё на сегодня!
Читать полностью…
Настигло
25 Mar 2025 13:59
Я и деньги: переломный год и конец 2010-х Ч.2
Можно было сколько угодно делать классные проекты «в стол», трудиться и молиться богу — но никакие боги бы меня не вознаградили за это. Разве что это был бог СММ лол.
Летом того же года, мой 27-й день рождения. К нам обратились молодые хореографы для оформления двух балетов в одном из самом известном академическом театре страны. Один из них попросил художественную абстракцию (которые я тоже очень любила делать, но некуда было девать), но другой хотел видеть на суперзанавесе своей постановки вот тот самый всратый китчевый ироничный коллажный стиль. Тогда я узнала, что за работу я могу получить в 10 раз больше, чем получаю.
Дальше все стало катиться, как по рельсам аттракциона Диснейленда. Работа в ресторанном гиде совала нас под нос столичному бомонду, который по этим ресторанам ходит. Работа с академическим театром связывает нас с артистической богемой. Теперь мы были на виду не только в паблике простигосподи вконтакта. Наши иллюстрации, обложки, афиши хотят печатные газеты и журналы, церемонии награждений и выставки картин, банки и ютьюб шоу, документальные фильмы и театральные постановки. В конце 2010-х — еще сценографии, в том числе для балета в США. Я узнала, что могу получить за работу в 100 раз больше.
Я вела переговоры с заказчиками. С одной стороны, опыт бедности в сознательном возрасте как будто закалил меня: я не боялась терять деньги, говорила «нет» тем, кто неприятно вел переговоры, делал не этичный продукт или предлагал соврать. Вносила в договоренности отсутствие правок или предлагала купить каждый новый цикл правок по новой цене. Регулярно повышала цену (хотя сейчас думаю, что цена была низковатой, учитывая спрос). Но для меня переговоры и оплата были не про заработок, а про тщательное соблюдение границ свободы творчества и уважение к себе: как всякий привыкший к бедности человек, я не могла допустить, чтобы кто-то помахал мне перед носом бумажками, как волшебной палочкой, и добился исполнения любых своих желаний.
Вскоре я начала упираться в проблему заказчика. Большие деньги водились у компаний, а компания приходили с абсолютно безумными и неприемлемыми предложениями: табачная ТНК хотела картин ко дню здорового образа жизни, производитель бензина в рекламном буклете — отсутствия изображений бензина, добычи, заводов, глава компании хотел коллаж с короной на голове, крупный бизнес — чтоб на картинках было больше «телок и майбахов», чтобы говорить на одном языке с клиентами, бэ. Конечно, все эти заказы летели в трубу, а мы выплескивали раздражение в проект по антиобщественным афоризмам Венедикта Ерофеева.
Еще я стала получать деньги и за подработку фотографом: то снимала мероприятия, то студийную предметку. В 2017 я начала понимать, что уже могу прокормить себя фрилансом как художник и даже стала откладывать где-то долларов 50 в месяц. И тут вдруг оказалось, что я могу зарабатывать текстами.
Спрошу у тех, кому однажды (или уже не раз) удалось переломить своё бедственное положение: как вам удалось это тогда сделать? Что сейчас видно с перспективы?
Читать полностью…
Настигло
24 Mar 2025 09:59
Опыт бедности Ч.2
Часто бедность оставляет след с травматическим характером. Если бедность была достаточно сильная, продолжительная или переживалась в формирующий период детства и юности — то она влияет на организм, как любой другой травматический опыт. Необходимость с ранних лет беспокоиться о будущем и о каждой копейке — это стресс, не говоря уже о том, что нехватка денег приводит к бедному питанию, десоциализации и недоступности многих возможностей, в том числе — эмоционально устойчивых взрослых, на которых можно опереться. Хронический стресс меняет работу мозга и эндокринной системы: в эти периоды мы реально более тревожные, меньше способны на креативные решения и хуже соображаем — и иногда эти черты остаются с нами надолго или вылезают в период стресса.
Наконец, мы просто не знаем многого из того, чему могут научиться люди в более обеспеченной среде: что значит разумно распределять доход, как определить, на что выгоднее тратить деньги для изменения жизни в будущем, на что стоит и не стоит брать кредиты, куда стоит инвестировать сбережения, как можно повысить свой доход, как на него влияет квалификация, социализация, внешний вид или даже голос.
При этом важно понимать, что всё это наследие — это абсолютно адекватная среде адаптация. Мы научились лучшему, что смогли почерпнуть из ситуации, в которой развивались, и многие эти особенности позволили нам выжить и развиться: кто-то выиграл за счет умения откладывать и смог изменить свою жизнь; кто-то капитализировал умение тяжело трудиться и был вознагражден и тд.
Демонизировать наследие бедности не стоит и уж точно тут нечего стыдиться. Мне кажется важным распутать клубок того, что нам досталось, проанализировать и распределить по категориям, которые можно превратить в инструменты.
Как по мне, первым делом важно понять, реакцией на какую среду и состояние экономики были некоторые интернализированные нами из среды (например, семьи) установки: что тогда происходило с рынком, деньгами, банками, экономикой? почему на самом деле обеднела или обогатилась семья? какие выводы сделали взрослые, было ли их поведение эффективным? какие выводы вынесли мы и насколько правильное понимание они отражали? — здесь важно ощутить, что наше ощущение работы и денег не абсолютно, а отражает конкретную историческую и социальную ситуацию.
Второй шаг, мне кажется, — это увидеть, что социально-экономические модели могут быть разными. Мне кажется, это особенно заметно, когда успеваешь пожить в разных эпохах или в разных странах с разными особенностями экономики. Ответить себе на вопрос о том, чем существующие сейчас вокруг меня модели отличаются от той, что была в период формирования. Какие законы действуют в ней и как ими пользуются хорошо себя в ней чувствующие люди?
А дальше можно рассортировать свои адаптации (установки, объяснения, поведение) по категориям: вредные, нейтральные и полезные в текущей ситуации. Например: все время откладывать — полезная штука, но делать это за счет трат на здоровье или бояться инвестировать деньги и хранить их только в матрасе — уже не очень.
И добавить категорию желаемого: что желательно узнать или какому поведению научиться, чтобы быть более адаптивными и эффективными в существующих условиях.
Кажется важным понимать, что тема денег и заработка сложная не потому что она с л о ж н а я сама по себе, а потому что истории про деньги — очень часто не только про деньги. Это могут быть истории про безопасность и травму, про заботу и отношения с людьми, про образ себя и самоценность, про картину мира и представления о добре и зле. Разобрать в этом клубке переживаний, мне кажется, для многих куда сложнее, чем в экономических закономерностях.
Рассказывая дальше о своей уже совсем взрослой жизни и заработках, я попытаюсь ответить для себя на все эти вопросы.
Пости про деньги: раз, два, три, четыре, пять, шесть
Читать полностью…
Настигло
21 Mar 2025 11:25
Я и деньги: поворотный год Ч.3
Бесплатной работой был проект независимого медиа с моими школьными друзьями. Мы лет с 15 пытались создать журнал, в котором можно будет всё. Чьи-то знакомые одолжили выставленную на продажу квартиру в центре — она на время стала редакцией. Там я торчала до поздней ночи (другие заглядывали в свободное от оплачиваемых работ время), невозмутимо выдерживая недовольные взгляды потенциальных покупателей. Да, трудоголизм может развиться и безо всякой зарплаты.
В журнале все старались кто во что горазд, как на детском утреннике, который никогда не закончится. Там я научилась писать журналистские статьи вместо академических текстов, искать авторов, редактировать, верстать, вести соцсети. Пригодилось киноведение для раздела с рецензиями, умение делать коллажи и создавать арт-фотографию на коленке — для иллюстраций.
Денег не было. Этот рефрен уже опаскудил, но что поделать! Я иногда гримировала, перебивалась фоторедактурой, даже работала репетитором по истории кино. По-прежнему подъедала еду у друзей и родственников, научилась стричься канцелярскими ножницами, носила длинный свитер для прикрытия протертых дырок на джинсах, много ходила пешком, чтобы сэкономить цену поездки на метро, и обнаружила, что больше всего мелочи можно найти под ларьками с пирожками и шаурмой (если успеть). Дошло до того, что один из сооснователей журнала выдавал мне из своего кармана денег на проездной метро, чтобы мне было, на что доехать до редакции.
Мне шел 27-й год, а я так и не придумала, как стабильно и понятно зарабатывать деньги. Скорее, я до предела развила понимание денег, добытое на предыдущих этапах жизни:
отношения с людьми важнее денег,
честность и трудолюбие — не требующие награды самоценности,
бедность — нормальное состояние творческого человека
я — не про деньги.
Тогда казалось, что я стою на месте и не имею никаких перспектив, в отличие от ровесников. Но сейчас ясно, что я приобретала тогда кое-что другое.
Во-первых, я обрастала социальным капиталом. Паблики с нашими картинками подрастали, у нас появились постоянные читатели. Журнал тоже рос, как куриная грудка на антибиотиках: оказалось, что множество молодых энтузиастов готовы вместе трудиться над чем-то общим в нашей горизонтальной структуре. У меня было всё больше авторов, благодарных за мою внимательность и терпение, которые позволяли их текстам выходить в лучшем виде — сарафанное радио распространяло весть, что через нас молодому человеку можно стать «настоящим журналистом». Нас читали все больше людей.
Во-вторых, тот период укрепил свободу и самостоятельность в творческой работе, собственное виденье, независимый и бескомпромиссный стиль работы. Всё, что я делала, я делала не ради денег, удовлетворения заказчика, принятия в профессиональной среде (которой у меня не было) — и благодаря этому была аутентичной и своём творчестве, интересах и работе с людьми.
Я никогда не думала, что деньги можно получать просто за то, что ты думаешь и как видишь, — и слава богу, что эта внутренняя часть моей личности выросла в диком заброшенном саду, никем не причесанная и не покалеченная. У меня появилось то, чего не купишь за деньги и чему не научишься на курсах: my own way of being — мой особый способ бытия. Сейчас понимаю, что именно за годы отчуждения, изоляции и финансового неуспеха научилась добывать внутреннее богатство, которое не может уничтожить ни смена профессии, ни кризис, ни падение рынка и даже, как показал опыт, война и обрушение социальных связей.
Мне кажется очень важным обнаруживать то, что мы приобрели в тяжелые времена — кроме травм, зажимов и ограничивающих убеждений, которые так легко стигматизируют и уплощают нашу личность до ярлыков. Поэтому прежде чем рассказать о том, как у меня всё изменилось, я спрошу у вас: чему вы научились и какое богатство приобрели в период, когда было тяжело и ничего не получалось?
Читать полностью…
Настигло
20 Mar 2025 14:34
Я и деньги: поворотный год Ч.1
Прошлую телегу я закончила 2015 годом: мне 26 лет, я выпускница университета со странной профессией киновед, на которой, кроме трусов, вся одежда — обноски подруг, в кармане кнопочный телефон и никаких финансовых перспектив. Моя мать — давно безработная домохозяйка, отчим теряет работу агентом по недвижимости и ищет подработки чернорабочим, отец безработный любитель компьютерных игр, которому возят еду его пожилые родители. Мне кажется, что я никогда не сломаю карму семьи, подумываю о самовыпиле и реву от жалкости этой идеи.
На выпуск мама сделала мне самый большой подарок в моей жизни. Отдала мне пачку купюр — остаток из отложенных на мое образование после школы денег. Она изрядно поредела, так как к ней в крайних случаях обращались для содержания второго ребенка, но всё же там было под 1500$ — что-то вроде 2-3 небольших, но достойных зарплат на тот момент. Я думаю, что этот внесок буквально спас в те дни мне жизнь, учитывая моё отчаяние после выпускного.
Мне казалось, что в моих руках огромные сокровища — только важно правильно инвестировать! Естественно, я немедленно влипла в кредит на обучение какой-то ерунде, которая оказалась ерундой только потом, но меня запугали, что нельзя расторгнуть контракт — в общем, думаю, нормально меня так наебали. Так большую половину денег немедленно съела моя безграмотность (за всю свою жизнь я на тот момент уронила из кармана, потеряла вместе с кошельком и отдала мошенникам денег больше, чем надеялась когда-либо заработать). Штош, — сказала я себе, — это урок тебе на всю жизнь. Я почти никому не рассказывала об этой позорной оплошности. Зато после этого я всегда читаю договоры от корки до корки и никогда не беру ни копейки в кредит.
Я пишу про довольно жалкую и потерянную, слабую на тот момент сторону своей личности. Но была у меня и другая сторона, которой всё это время не особо было место в текстах про деньги, потому что она — не про них. Однако именно эта часть личности в итоге перевернула мою жизнь и таким ебически тернистым путем привела меня к умению зарабатывать.
Эта сторона — моя внутренняя жизнь, то, что называется духовностью, I assume. В разные годы она проявлялась разными сторонами: в религиозности (сначала христианской, затем буддийской), в эзотерических изысканиях (от Карлоса Кастанеды и Алистера Кроули до суфизма и Каббалы) и, конечно же, в искусстве, которое я воспринимала как свой способ служения Богу. И насколько была развалена моя социальная жизнь — настолько уверенной я чувствовала себя в этих областях.
Как я писала раньше, я пережила ужасные годы мучений, осознавая, что мой выбор быть художником для меня — это не про работу, а про призвание и служение. Не про ремесло и коммерцию, а про приверженность внутренней правде, когда через тебя говорит дух Божий. Про работу над тем, чтобы смирить своё эго, проработать свои триггеры и слабости, стать чище, добрее, спокойнее и сильнее — чтобы как можно меньше искажать голос этого духа. Ну и понятно, помогать людям. Тот факт, что мы со Ждановым работали под одним именем bojemoi — как раз и отражает этот подход и веру в то, что в области духа нет места для самовыражения и для «я», а только для выражения чистой, никому не принадлежащей общей духовности. Ну вы поняли атмосферу, короче.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
19 Mar 2025 14:28
Коучинг или психотерапия: что лучше? Ч.1
Часто слышу от клиентов: «Коучинг лучше психотерапии!». Такая оценка связана с быстрым прогрессом, большим количеством инсайтов на единицу времени, часто — с их интенсивностью и, конечно, с заметными изменениями в жизни. Казалось бы, если можно быстрее, интенсивнее и результативнее — почему не выбрать сразу коучинг?
На самом деле, конечно, стоит обратить пристальное внимание на фразу «коучинг лучше, чем психотерапия» — ведь она показывает, что у клиента уже есть опыт психотерапии. Да, в небольшом проценте случаев бывает так, что это неудачный опыт, скорее, связанный с неподходящим человеком по ту сторону разговора, не найденным общим языком и взаимопониманием. Если речь о том, что человек впервые нашел в коучинге «своего человека», то это очень большой предиктор прогресса в помогающей работе. Если это точное попадание — то во многих случаях не так важно, что это за подход. Человеку нужен человек и все такое.
Но в большинстве случаев так говорят люди, которые уже получили от психотерапии лучшее понимание себя, контакт с собой, примирение с прошлым и умение рефлексировать. Собственно, все эти бонусы они и приносят на коучинг, который умеет получать максимум от наличествующих ресурсов. В каком-то смысле терапия — это базовая финансовая грамотность, а коучинг — продвинутый уровень инвестиций, и они прекрасно работают в паре. Мы с психотерапевтами не конкурируем, а сотрудничаем: передаем клиентов друг другу при необходимости или работаем параллельно с одним человеком по разным вопросам (а иногда по разным аспектам одного и того же).
При этом для эффективного коучинга предыдущая психотерапия большинству людей не требуется: в коучинге есть инструменты для развития рефлексии и исследования эмоций, которые будут работать, даже если вы этого никогда не делали. Мне запомнилось замечание психолога и коуча экзистенциального направления Яника Джейкоба о том, что коучинг — это «backdoor therapy», такая «тайная психотерапия» для людей, которые «слишком здоровы, чтобы обращаться к психологу». Действительно, люди часто приходят с коучинговым запросом, держа за пазухой запрос на психологический контракт: и поскольку разум и чувство, действие и переживание, цель и личность неразделимы — это совершенно нормально.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
12 Mar 2025 16:39
Я и деньги: начало 2010-х ч.2
Для собеса на копирайтера в онлайн-ритейлере одежды я прочитала несколько книг про историю моды, отсмотрела модные показы за год, провела анализ цитат на историю искусств и пришла на собеседование с портфолио своих коллажей. Рекрутерка молча слушала, как я хочу делать концептуальное медиа про моду, какого еще не было, — и никогда не позвонила
Я много трудилась: помогала студентам писать курсовые и редактировала сценарии; на каникулах мы со Ждановым делали фотопроекты, которые вставляли то на вечеринках, то украшали кафе. Однажды продала нашу картину, это были деньги, равные моей крошечной стипендии! Я потеряла их вместе с кошельком по дороге домой — as usual.
Пыталась монетизировать навыки со своих съемок, для которых я закончила обучение на мейкапера. Делала в общаге «архитектуру бровей», предлагала девочкам научиться делать макияж… Все было вяло, пока я не додумалась, что у нас в киновузе не учат на гримеров. Это была моя первая предпринимательская «эврика!». Я научилась старить лица и руки, пачкать и ерошить чистых актеров для натуральности, создавать синяки и раны, делать «натуральный мейк» под камеру и фантазийные гримы для клипов. Практически на каждой съемочной площадке я то работала вторым режиссером, то на ходу «лечила» сценарий, то работала с актерами как коуч по актерской игре. Но сама не видела, что умею делать много того, что могло бы приносить заработок: не умела мыслить монетизацией и оценивать свой труд.
Грим отбивался плохо: для классного результата нужен был чемодан всего, а студенческие оплаты не позволяли даже выйти в ноль. Надо было делать выбор: или идти дальше в фэшн и рекламу, чтобы отбивать затраты на материалы и зарабатывать, — или нахрен бросать это дело. Мейкап — слишком дорого для хобби.
В свой последний день в этой профессии я делала арт-мейк для клипа, и мне смогли оплатить только стоимость специфических материалов именно именно под эту задумку. Я работала за опыт (портфолио у меня не было, я и не знала, что оно нужно). После съемок одна из девчонок спросила: «Ты купила эту косметику на наши деньги?». «Да», — ответила я. «Выходит, она наша и я могу ее забрать?» — наивно хлопнув наглыми глазами, сказала она. Я поскрипела мозгами: звучало логично — я ответила «да». Только таща свой чемодан на другой конец города, я смогла разобраться в экономической логике произошедшего и, ревя как слон, решила, что больше этой хуйней неблагодарной заниматься не буду.
Для своих художественных проектов я научилась профессионально фотографировать, ретушировать и обрабатывать фотографии и обладала обширными познаниями в истории фотографии. Никогда бы не подумала, что это можно продать, и уже договаривалась о работе в поликлинике по мытью полов (тогда мне уже было очевидно, что я вряд ли чем-то еще в жизни я смогу заработать). Ровно тогда знакомый позвал меня работать фоторедактором у него на проекте. Я до сих пор не знаю, сколько было в этом жалости ко мне, а сколько от признания моих умений. Но работу свою я делала хорошо, и это дало мне поддержку почти на год, пока проект не закончился.
Я дотянула до конца вуза благодаря обедам у друзей, студенческой стипендии, бесплатной каше по утрам в столовой и доброму сердцу маршрутчиков, которые возили меня за три копейки, которые я выскребала из угла кармана. Когда я сейчас оглядываюсь назад, то понимаю, насколько же была беспомощна. Блестящая студентка, которую видели аспиранткой несколько хороших преподов. Очереди из сценаристов и режиссеров, которым была нужна моя помощь. Творческие работы, которые привлекали внимание в соцсетях и маргинальных тусах. Но деньги? — невозможно! Не про меня!
Это был апофеоз того, что я узнала о деньгах: что их невозможно контролировать и нереально привлечь, что они не связаны с трудом и даже обратно пропорциональны талантам. И что делать важное и ценное можно, только голодая. В 2015 году я стала выпускницей 26 лет с непонятной профессией без денег и перспектив.
А как вам дался выпуск из универа в реальную жизнь?
Читать полностью…
Настигло
09 May 2025 17:47
Кто лучше достигает целей Ч.1
Какой типаж клиентов быстрее и эффективнее достигает своих целей? Интересный вопрос мне задали.
То, насколько быстро и эффективно человек будет двигаться в коучинге, зависит от того, на каком этапе готовности к изменениям он находится.
Все мы движемся по жизни циклами: есть большой экзистенциальный цикл от зачатия до смерти, есть возрастные циклы трансформаций и множество еще индивидуальных путешествий, в которых мы развиваемся. Каждое путешествие (от всей нашей жизни до процесса обучения новому делу) имеет свои фазы: начало, пик и окончание — и затем новое начало.
Эти циклы также диффузно пересекаются между собой, создавая уникальный рисунок пути каждого человека. На развитие каждого нашего процесса (от выбора работы до развода) влияет, на каком моменте экзистенциальной трансформации мы находимся, в какой фазе отношений со смертью, миром, обществом, близкими и с самой собой мы сейчас, и какие более мелкие циклы запущены в нашей жизни. Например, начинать свой бизнес в 20, 35 или 50 лет — совершенно разные процессы, так как они окрашены разным экзистенциальным, социальным и личным опытом. А если такой процесс сочетается с рождением детей, смертью родителей, переездом и тд итп — то это тоже отдельно влияет на его характер.
Люди приносят запрос в коучинг на совершенно разных этапах как своей жизни в целом так и запроса в частности.
Каждый запрос клиента — это намерение пережить ту или иную трансформацию. И на ход работы влияет то, на каком моменте клиент решил обратиться к коучу.
Тот, кто чувствует, что уже пахнет окончанием старого этапа и близится выбор нового пути, стоит перед огромной бездной возможностей, глядя в неоформленный мутный туман, где его манят загадочные огни. За спиной постепенно выцветает и старый этап. Такой клиент будет долго исследовать темноту под ногами, вырабатывать инструменты нового взгляда, отваживаться исследовать, много раз возвращаться назад на привычную землю, пока не решится запустить процесс бесповоротного перехода.
Такой человек может казаться нерешительным в достижении целей — но на деле он проходит важный этап создания нового подхода к самому формированию целей. Часто – через создание нового взгляда на самого себя.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
07 May 2025 16:11
Проблемы с деньгами из детства Ч.1
Как детство определяет наше взрослые проблемы с деньгами? В поисках ответов на вопросы о том, как взросление в разваливающемся СССР и в бывших республиках сразу после его распада повлияло на финансовые стратегии моих ровесников, я нашла несколько довольно типичных сценариев. Они не исчерпывают полной картины, но судя по реакциям читателей, очень распространены.
Ландшафт такой: смена экономических систем, люди или уже некоторое время живут в бедности или имеют сбережения, которые теряют. Законы жизни кругом меняются, не всегда понятно, как под них адаптироваться, не для всех это возможно в силу ситуации в регионе, профессии, опыта итд. Семья переживает не только финансовый кризис, но и экзистенциальный: непонятно, как жить в новом мире, как выжить, к чему готовить детей.
Сценарий 1, в котором взрослые сильно не зрелые психологически. В этой ситуации возможен так называемый «финансовый инцест» — частный случай психологического инцеста, когда взрослый относится к ребенку как полноправному взрослому партнеру, на которого можно выгрузить эмоции, разделить беды, посоветоваться, разделить или даже переложить ответственность за какие-то решения.
В такой ситуации ребенку часто приходится быстро взрослеть и становиться «разумным не по годам», хотя он просто не имеет мозга, понимания, внутреннего ресурса и опыта, чтобы справляться с эмоциями взрослого или решать взрослые проблемы. На тему денег он приобретает тревогу за будущее и благосостояние семьи. С этой тревогой ребенок просто не может справиться так рационально, как взрослый, который умеет рассуждать, планировать, диверсифицировать, рассчитывать риски и тд. Ребенок взваливает на себя ответственность за финансы взрослых, может старательно экономить, рано пытаться работать, пропустить стадию ощущения бесконечного потенциала и смелых мечтаний.
Такой человек, став взрослым, может быть действительно сильным и самостоятельным. Но мне кажется, что без проработки это сила и самостоятельность маленького испуганного ребенка без поддержки — напряженная, тревожная, дающаяся сильным напряжением и без ощущения, что можно опираться на внешние ресурсы.
В предельном варианте такого психологического инцеста взрослые не просто вовлекают детей в свои тревоги, а используют ребенка в финансовых (и не только) отношениях с другими взрослыми. Просят что-то передать, попросить, надавить, упросить, призвать ответственности другого взрослого. Часто такое случается после ugly развода. «Видишь, папа нам не хочет помогать», или «Спроси у мамы, ведь на поездку в Х у нее деньги есть». Детей могут даже специально одевать в драную одежду, которая мала, или лишать чего-то, чтобы устыдить бывшего партнера.
В таком случае развивается тревожное и депрессивное расстройства, тема денег может быть связана со стыдом и виной, а бедность и нехватка — связаться с идентичностью. «Я бедная» неприятным образом связывается с «меня не любят, от меня ушли, я ничего не стою» итд.
Сценарий 2, в котором взрослые справляются, как могут. Можно не вовлекать детей в свои проблемы, но довольно сложно скрыть тревогу и экономию. Если принцип экономии абсолютизируется (такая стратегия нужна всегда и везде, это не временная мера, а универсальный принцип жизни) и становится частью воспитания детей, то затем, когда мы живем уже в другой экономической ситуации, она превращается в ограничивающее убеждение.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
30 Apr 2025 15:19
Я и деньги: война Ч.1
Большая война стала для многих сценариев моей жизни большим интегралом: в её адском огне как будто расплавилось и интегрировалось все во мне в какой-то новый сплав. То же случилось и с темой денег.
Я встретила полномасштабное вторжение в тревожном состоянии переработок с целью накопить на «черный день» материнства. Моя подушка, рассчитанная на все случаи жизни — от утраты возможности работать до оплаты нянь или каких-то послеродовых операций — уже сложилась. Я планировала увольнение с постоянной работы, построение частной практики и зачатие на весну 2022 года. Ха! Ха-ха… За неделю до весны эти планы рухнули, я потеряла весомую часть денег, все свои работы и много чего еще.
Честно сказать, я подумала, что я была дурная — так переживать насчет опасностей деторождения (эти все тревоги под бомбами как-то быстро растворяются); но в то же время тайно была собой довольна. Поведение, которое казалось иррациональным — поспешное накопительство, брать как можно больше работ, как будто их скоро отнимут — вполне оправдалось. Оказалось, что к черному дню я готовилась не зря, потому что именно он и настал — и пока я была полностью дезориентирована в развалившемся агрессивном мире, сохранившаяся часть моей подушки купила мне очень много времени.
Первым делом во время вторжения я начала реализовывать семейные военные стратегии, передаваемые от поколения к поколению: сильно экономить, меньше есть, штопать вещи. Когда Киев был в полуокружении, в голове всплыли все истории о блокаде Ленинграда, которые в нашей семье были будто частью священного писания (хотя у меня из Петербурга никого нет, у меня Сибирь, Воронеж, Украина, Беларусь…). «Скоро мы будем готовить картофельные очистки и вываривать кожаную обувь, чтобы не умереть с голоду», — думала я. Пока магазины и аптеки не работали, это казалось реальностью.
Но когда через несколько месяцев я вылезла в город — у меня был культурный шок, потому что по улицам ходили хорошо одетые, причем одетые в новое и модное в этом сезоне ухоженные люди. Это был мой культурный шок полномасштабной войны в глобальном капиталистическом мире, где обстрелы, смерти и окопы сосуществуют с торговыми центрами, рекламой нижнего белья на билбордах и ногтевым сервисом.
Мне было морально тяжело покупать новые кроссовки взамен порвавшихся: люди гибнут — а ты, блять, дырку в ботинке не потерпишь! У меня ушел примерно год, чтобы заменить почти не работающий холодильник. Тут трансгенерационная травма Второй мировой войны слилась в экстазе с детским опытом 90-х.
Я не преувеличу, что мне пришлось что-то с силой отодвинуть внутри себя, чтобы перестать заниматься моральным мазохизмом с экономией. Да, с одной стороны, вместо ненужной покупки лучше отправить деньги на что-то, где они могут изменить что-то принципиальное — но иногда это принципиальное касается тебя и твоей жизни. Чрезмерная жертва собой в этом смысле похожа для меня на детскую демонстрацию праведности в ожидании вознаграждения от некоего взрослого или, может быть, Бога. Но по сути это перекладывание ответственности решения своих проблем на кого-то другого, потому что твои проблемы за тебя никто не решит — особенно созданные в процессе решения проблем чужих. Только мое мнение, разумеется.
С холодильником была другая история: как можно потратить целых 500$, если обстрелы? А вдруг прилетит в дом? А вдруг придется бежать и все оставить и как непотраченные деньги спасут? Вот и сейчас уже год не могу купить себе кровать: я сплю на диване 25-летней давности, ортопедического матраса там даже рядом не валялось. Кровать, какая мне нужна, стоит не дорого, но по тяжести решения у меня ощущение, что я покупаю недвижимость. Кроме того, в мире утрат трудно расстаться с этим диваном: я буквально на нем взрослела, он был свидетелем нашей зарождающейся любви, я помню его тут всю свою взрослую жизнь — как я могу с ним расстаться? У меня сердце кровью обливается, хотя никогда раньше я не была таким человеком и легко выбрасывала вещи. ⬇️
Читать полностью…
Настигло
09 Apr 2025 12:16
Я и деньги: мой первый бизнес Ч.2
Я стала размышлять, а что именно полезного я могу дать? Без посредников в виде компаний, издательств, институций между мной и желанием людей платить мне за то, что я делаю. Наконец моя парадигма сдвигается от «где я могу работать?» (да нигде, блин, ясно же уже) до «за что люди могут платить мне деньги?».
Ответить на этот вопрос внезапно просто: я анализирую, почему столько людей обращаются ко мне, и вдруг обнаруживаю огроменный кусок неоплачиваемой работы. Я подробно разбираю тексты авторов, которые не дотягивают до публикации у нас — чтобы они могли вырасти. Я беру начинающих писателей и блогеров без опыта, чтоб рассказать им о производстве текстов и помочь им публиковаться. Я уговариваю своих фриланс авторов переходить из «чернорабочих журналистов» в экспертное поле и курирую их развитие. Устраиваю бесплатный кружок по созданию нонфикшн книг. Короче: я и так уже работаю с людьми и даю им то, что им полезно. Мне просто нужно начать брать за это деньги.
Удивленная простотой открытия, я приглашаю людей на консультации — и бум! Ко мне идут журналисты-текстовики, сценаристы кино и телевидения, начинающие писатели, редакторы и желающие научиться писать эксперты. Дальше ко мне идут компании, которые хотят делать СМИ и СММ. Потом сарафанное радио и соцсети работают без остановки, ко мне приходят люди совершенно разных занятий: одни с запросом карьерного коучинга, другие — за научным подходом к работе над собой и своей эффективностью.
Я начинаю читать лекции в компаниях, мне дают заказы на рисерч и разработку научно обоснованных стратегий улучшения условий работы. На личные консультации идут СЕО и топ менеджеры. На этом моменте я получаю за час работы с частным клиентом стоимость статьи, которую нужно писать неделю-две, а за 1 корпоративную консультацию — 4 своих месячных дохода как редактора.
Ура, новый 2022 год! Я наконец-то поняла, что полезна людям и мне есть, за что заплатить. К маю планирую накопить на шикарный «декрет», уволиться с работы в журнале, в свободном режиме зарабатывать консультациями, открыть литературное агентство-инкубатор писательских талантов и начать работать над новой книгой. Через 2 месяца начнется полномасштабное вторжение, я потеряю доступ к своим сбережениям, а еще потеряю все работы и саму способность работать. Но это — уже совсем другой этап.
Мне понадобилось 15 лет размышлений, мучений, скитаний, бесплатных или бесперспективных работ, чтобы понять, откуда берутся деньги и как они связаны с другими людьми. Так я пришла к идее предпринимательства: работы не столько на себя, сколько на настоящих живых людей, которым реально важно и нужно то, что я делаю, безо всякого рекламного вранья. 15 лет, чтобы узнать, что зарабатывать любимым для себя и полезным для других делом не просто возможно — а и самый лучший вариант для меня.
Теперь ясно, что с моим характером у меня никогда не было другого выбора — но особенности воспитания, примеры бизнесменов из 90-х и 2000-х надолго отбили желание даже смотреть в эту сторону.
Задумывались ли вы о том, чтобы работать «на себя»? И если вы уже предприниматель(ница), то что посоветуете тем, кто только начинает свой путь?
Начало истории: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Читать полностью…
Настигло
04 Apr 2025 13:11
Открываю набор в писательскую группу
«Текстонавтика» — это групповое погружение в писательский процесс с точки зрения психологии, а не ремесла, для пишущих любого уровня.
Я не расскажу вам, как работать с композицией, структурой или синонимами. Творчество нуждается не в научении и иерархии, а в свободе. В свободе быть собой. Этим и займемся.
Текст у нас будет не самоценность, а способ самоисследования и коммуникации друг с другом. Я не буду оценивать и «улучшать» ваши тексты: мы будем читать их, переживать и отзываться. Наш фокус — взаимная поддержка, исследование своей психики, поиск своего смысла для письма и знакомство со своим уникальным творческим голосом (он уже у вас есть, даже если вы в этом не уверены).
Что получите:
✏️Найдете своё понимание письма
✏️Ослабите писательский блок
✏️Начнете писать «от себя», своим голосом
✏️Перестанете бояться написать что-то «не то»
✏️Будете писать легче и радостнее
✏️Сможете назвать себя писательницей/писателем
✏️Получите настоящую группу поддержки
✏️Если захотите, напишете 20 важных текстов о своём писательском опыте
Когда:
вечером по воскресеньям в 18:00 по Киеву
20 апреля — 22 июня
10 встреч
2,5 месяца
Стоимость:
300$ за 2,5 месяца
(30$ за 2 часа групповой работы + работа с 2 текстами)
10 платных + 2 льготных места для тех, кто не может заплатить (укажите при заполнении анкеты ниже)
Темы встреч:
✍️«Создание пространства»: знакомство и исследование наших целей
✍️«Внутренний ландшафт»: исследуем творческое пространство
✍️«Внутренний голос»: исследуем свою писательскую субличность и ее способ быть
✍️«Внутренний драйвер»: находим уникальные причины писать
✍️«Внутренний критик»: знакомимся с ним и работаем над новой стратегией коммуникации
✍️«Внутренняя тень»: страхи, честность и внутренняя свобода
✍️«Внутренняя/ий читатель/ница»: письмо как на средство контакта
✍️«Писательский блок»: разбираем разные причины от психологических до нейрологических и варианты работы с блоком
✍️«Виденье и метод»: осознаем особенности своего письма и обрисовываем свой писательский метод
✍️«Быть писательницей/писателем»: итоги, взгляд в будущее
Отзывы про кружок от анонимных участниц ФАС и антиавторитарного сопротивления в рф:
«Можно делать не идеально. Необязательно "грузить" читателя массивными терминами и теориями. То, что я знаю, это моя органическая часть, она никуда не денется. Важно начать. Важно говорить. Сказанное можно уточнить, дополнить, объяснить. Несказанное просто не прозвучит». — Poryadok I progress
«Я призналась себе, что я пишущая. Я развернула всё о своем письме. Не представляю с кем бы ещё я стала выполнять так честно писательские задания. У меня были попытки участия в писательских то ли марафонах то ли студиях – я слетела (сама) после первого письменного задания. Я не представляю кому еще я могла бы так открыться так полно. Мне это дало невообразимо много: я столько узнала о себе пишущей. Я поняла кто я в тексте, как я пишу, о чём и для чего и даже как называется мой метод и что он есть тоже». — alla.m
«Я стала больше писать. Без каких-то рамок и заданных стандартов. Просто пишу, имея почву под собой и чувство своей какой никакой писательской идентичности. И может быть уже не так неловко подумывать о себе такое иногда. Хотя говорить такое вслух все ещё немного неловко». — lara
«Я плохо понимаю свои чувства. Здесь я поняла про себя что-то, и это прогресс. А еще я замерла с началом войны, просто была функцией. Жизнь не забурлила, но какой-то движ пошел». — Inabrel
«Сейчас я знаю точно, я буду писать ещё смелее и отчаяннее, ещё коварнее и беспощаднее буду обходиться со словами, да, именно, я перестану жалеть тратить слова. Такую способность человек может получить именно в безопасном пространстве, там, где он может быть и злым, и гадким, и всё равно принимаемым». — Vezdenavsegda
Чтобы записаться: заполните анкету
‼️по соображениям безопасности в этот набор людей из рф не приглашаю ‼️
Если вы хотите такую группу на украинском, напишите, изучу спрос!
Читать полностью…
Настигло
31 Mar 2025 13:57
Я и деньги: конец 2010-х и заработок умом Ч.2
Я снова сталкивалась с каким-то невидимым потолком, который не могла определить: вокруг было много возможностей заработать больше, но они требовали отвернуться от своего понимания этики — а то и вовсе бросить темы, которые мне важны.
Боюсь посчитать, сколько денег я потеряла на отказах давать рекламу в блоге, работать с корпорациями и переходить из журнала в рекламный отдел. Тогда доминировала такая модель для медиа: есть журнал, в котором работают авторы за небольшие деньги, чем привлекают читателей — трафик. И есть контент-агентство, которое продает этот трафик заказчикам: впихивают читателям журнала рекламу, оформленную под обычные тексты. И те, кто пишут/рисуют рекламу, получают денег минимум в два раза больше. Это качественные тексты часто уважаемых авторов — но совсем не моё.
Тем не менее, моя жизнь значительно улучшилась. Я перестала голодать — хотя всё ещё тратила время для экономии денег: ходила в дешевые магазины, чтоб набрать продукты по скидкам (плюс карточка). Смогла позволить себе экономить на покупках типа «2 + 1 в подарок». Начала посещать дантиста и записалась в спортзал.
Узнала о концепции подушки безопасности и начала откладывать 10% от любого поступления: моей целью стало собрать денег на полгода недееспособности — на сегодняшних деньгах я имела в виду 1200-2500$, которые казались заоблачным богатством. Наконец смогла начать помогать самым младшим детям в семье (каковых было на тот момент 4): создала для них отдельные счета, куда собирала свои деньги, стрясывала дополнительно немного с каждого взрослого — и при накоплении значительной суммы дети питчили свои идеи, как их потратить для образования, творчества или здоровья.
При этом я очень боялась потратить что-то лишнее. Каждая покупка сопровождалась долгими размышлениями и выписыванием вариантов со сравнением цен и характеристик. Эта привычка есть у меня до сих пор: я иногда так долго думаю о покупке чего-то не сильно значительного, что оно устаревает или исчезает из продажи, когда я готова потратиться. Честно говоря, всегда испытываю облегчение, когда не надо ничего покупать.
Решила ветси бюджет в екселе, где отслеживала все входящие и исходящие движения денег по категориям. Считается, что если вести ее долго, можно найти лишние траты и сэкономить. После почти 2 лет ковыряния в чеках я так и не нашла, где бы я могла сэкономить ещё: я была совершенна в ужимании и скупости — и бросила.
Стало ясно, что проблема не в экономии — наоборот, это уже тупик. Догадалась, что мне нужно развивать понимание возможностей, которые открывают траты денег. И понять, как расти в доходе, не убивая себя работой (потому что больше работать уже физически было бы некуда). Меня начали интересовать истории про то, как люди поменяли скрепку на тапок и потом стали миллиардерами — я ничего не понимала, но заметила, что в моем мышлении не хватает какого-то принципиального фундаментального понимания, которое есть у предпринимателей, иногда даже с детства.
Не найдя возможности расти в медиа, в начале 2019 года я готовлюсь к переходу в фитнес. Работаю над телом и техникой, собираюсь на сертификацию. Думаю о том, что это открывает дорогу к работе на себя, к возможности открыть с партнеркой велнес-центр, где я смогу использовать знания по нейробиологии и психологии и не думать о сраных корпорациях и рекламщиках (маркетологи, простите!).
Но у жизни на меня другие планы. В мае обидно и идиотски погибает моя близкая подруга. Через неделю я на фоне острого стресса получаю серьезную травму ноги, ортез на месяц с частичной атрофией мышечной ткани и депрессивное состояние из-за утраты одновременно близкого человека и возможности перейти в новую профессию, как я хотела.
Свой 30-й день рождения в июне я провела, хромая на костыле чужой худой ногой и каждый день плача. Зато мои разговоры со всеми кругом о потенциальной книге привели к результату: мне написали из издательства и предложили написать мою первую книгу о мозге.
Читать полностью…
Настигло
29 Mar 2025 11:31
Коучинг по цене на 15% ниже
Остается 3 дня, чтобы записаться по старой цене: 120$ за сессию (и особая цена 95$ для украинок и украинцев, где бы вы ни жили). Подробности писала тут.
Поскольку я не успела и уже не успею до конца марта ответить всем желающим, то уточняю: если вы написали мне до конца марта — старая цена остается за вами вне зависимости от того, когда я вам отвечу и когда мы утвердим расписание.
Записываю сейчас в работу на май-июнь. Но если у вас что-то срочное, я, может быть, смогу порекомендовать коллег — так что пишите, вдруг я знаю того, кто вам нужен.
Читать полностью…
Настигло
29 Mar 2025 09:07
Кейс: стать писательницей = стать собой Ч.1
Как взять и стать «им» — н а с т о я щ и м писателем/художником? Один из самых напряженных вопросов в голове творческих людей. Честно скажем, уже состоявшиеся художники и писатели иногда и сами живут в сомнениях: а я уже стал или еще нет? А если и стал, то вдруг перестану быть? Все эти «позорные страхи» творческие люди иногда скрывают за загадочным позерством или сваливаются в гуризм с одним сводом правил бытия на всех, только путая карты еще больше.
Неудивительно, что начинающие творцы иногда вовсе плюют на эти поиски, как на какую-то детскую ерунду, и творчество становится смутной и иногда тревожащей фантазией и прошлого.
Хочу сегодня поделиться кейсом творческой клиентки, который показывает, что нет иного пути стать творцом, кроме как… просто быть им — то есть быть собой. А значит — встретиться с собой такой, какая ты есть, и найти в этом красоту, силу и творческий потенциал.
Виолетте 26 лет, она психолог, работает в маркетинге, и всегда хотела стать стать писательницей. По её мнению, реализоваться ее творческим амбициями мешали отсутствие дисциплины, СДВГ, несерьезное отношение к творчеству и в целом отсутствие понимания, какой мог бы быть смысл и польза такой деятельности. Идея о том, что необходимо показывать в соцсетях «идеальный» результат, повышало ее тревогу вокруг письма, толкало забрасывать недописанные черновики и предпочитать творческим текстам — маркетинговые, одобренные заказчиком.
В коучинге, слава богам, нет директивности: советов, оценок, обучения правильному — они всегда ограничивают вместо того, чтобы расширять виденье. Вместо этого мы можем сконцентрироваться на клиенте, чтобы дать ему пространство для раскрытия внутреннего творческого мира, в котором его потенциал сможет показываться без страха цензуры и оценок.
Вот, что сделала Виолетта за 6 сессий в коучинге:
1 Исследовала, визуализировала и нашла контакт со своим внутренним писательским голосом.
2 Научилась переводить фокус с идеального будущего результата на процесс творчества в настоящем. Это позволило ей найти в нем черты игры, исследования и медитации.
3 Обнаружила голос своего внутреннего критика, проследила его корни в детский возраст, изобрела приемы, позволяющие ей выходить из-под его контроля.
4 Нашла писательские практики, которые помогают налаживать контакт с собой, принимать себя и находить обаяние в разных сторонах своей личности.
5 Стала более комфортно чувствовать себя в пространстве творческой неопределенности, ввела регулярную писательскую практику в еженедельное расписание, постепенно увеличивая время для творчества. Научилась входить в состояние потока в творческом письме.
6 Ощутила больше свободы быть собой (как в творчестве, так и за его пределами) и разрешила писать себе не идеально — то есть честно и свободно. Открыла новые жанры, в которых раньше не думала писать.
[что из этого вышло в итоге ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
27 Mar 2025 13:52
Разница между обучением и научением Ч.1
Можно ли обучить человека тому, как принимать решения, совершать выбор, раскрываться свой потенциал в творчестве, хотеть чего-то или «быть собой» (что бы это ни значило)? Сейчас изучаю тексты Карла Роджерса — одного из основателей современной гуманистической психотерапии.
Очень интересная судьба человека из крайне религиозной замкнутой семьи, который хотел стать фермером, затем занялся пасторской деятельностью, а потом узрел ограниченность религии и перешел в психологию. По заветам этого человека сейчас строится работа в большей части помогающих профессий. При этом поначалу за его клиент-центрированный психотерапевтический подход вместо диагноз-центрированного, принятого в его время, его подвергали осмеянию, критике и вовсе не считали психологом.
Но сегодня не про склоки в академии, а про заинтересовавший меня отрывок из «Личных мыслей по поводу научения и обучения», который он написал для конференции учителей в Гарварде.
Сделаю только пометку про разницу научения и обучения. Под «обучением» Роджерс понимает передачу человеку готового знания (типа «дети, запомните эти факты»), а под «научением» — процесс получения знания из переживаемого опыта (типа «дети, только что вы упали, прыгая со шкафа — это была сила притяжения»). Про примеры я шучу, конечно, он имел в виду более глубокое познание человеком самого себя и мира.
«Мой опыт показал, что я не могу научить другого человека, как обучать. Все мои попытки сделать это в конце концов оказываются тщетными. Мне кажется, что все, чему можно научить другого, относительно неважно и мало или совсем не влияет на поведение.
Я все больше понимаю, что мне интересны только такие знания, которые существенно влияют на поведение. [...] Я почувствовал, что значительно влияет на поведение только то знание, которое присвоено учащимся и связано с неким открытием, которое сделал он сам».
Эти мысли совпадают с моим опытом, начиная от работы с авторами и заканчивая помощью людям в развитии в профессии. Мы можем написать сколько угодно дельных советов — для 99% людей они останутся не имеющими к ним никакого отношения. Они не изменят их поведение и не помогут изменить жизнь.
В то же время образование в искусстве привело меня к идее того, что мы не можем передать знания — но можем создать среду, в которой человек получит опыт, который приведет его к открытию о себе или мире и превратиться в знание. Создавать такой опыт и стало моей деятельностью задолго до того, как я узнала, что для этого есть всякие теории.
«Знание, которое добыто лично тобой, истина, которая добывается и усваивается тобой в опыте, не может быть прямо передана другому. Как только кто-то пытается передать такой опыт непосредственно, часто с естественным энтузиазмом, он начинает учить, и результаты этого – малозначимы. К моему облегчению, я недавно обнаружил, что датский философ Сёрен Кьеркегор открыл и очень ясно описал это еще век назад. Поэтому мое утверждение уже не кажется мне таким абсурдным.
Вследствие того, о чем было сказано выше, я понял, что у меня пропал интерес быть учителем. Когда я пытаюсь учить, как я иногда это делаю, я ужасаюсь тем, настолько незначительны достигнутые результаты, хотя иногда кажется, что обучение проходит успешно. Когда это случается, обнаруживается, что в результате приносится вред».
Тут у меня тоже схожий опыт: роль учителя казалась мне слишком узкой и функциональной. Я обратила внимание, что даже если я формально занимаю роль учителя или руководителя, то мои подопечные проявляются гораздо богаче и ярче, если им давать пространство для эксперимента, ошибок и своих находок — когда у них есть свобода и контроль проживать свою работу, как опыт, как часть жизни личности. Да-да, я была таким редактором (но не на этапе финальных правок, конечно кек).
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
25 Mar 2025 13:57
Я и деньги: переломный год и конец 2010-х Ч.1
К переменам в моем безденежном и бесперспективном состоянии в 2016 году привело не чудо, не случайность и не помощь богатого инвестора. Как я поняла потом, к ним привело накопление результатов моего бесплатного творческого труда и интуитивное умение работать с соцсетями и аудиторией.
Напомню, с 2015 года наш проект bojemoi выкладывал две картинки каждый день на протяжении полутора лет и начал иллюстрировать организованный с друзьями журнал — все бесплатно, разумеется. Наш паблик с коллажами на тему Толстого за это время приобрел некоторую известность. У него появились паблики-дублеры куда популярнее нас, так как использовали наши коллажи со смешными подписями. Их админы были настолько порядочны, что подписывали наше авторство.
Тогда я сделала вывод, что если непреклонно быть собой и гнуть свою линию — к тебе привыкнут и даже полюбят зрители.
В итоге чел с дальнего востока рф захотел напечатать наши картинки на мерче и не только спросил разрешения, но и прислал какой-то мизерный, но процент. Городские активисты на родине Толстого захотели повесить наши коллажи с ним в городе. Продавцы культуного мерча — напечатать с ним футболки и толстовки. Кто-то платил, кто-то не платил: было приятно получить деньги, но проект был задуман бесплатным и популяризаторским — в этом для меня была его сила и принцип его виральности.
Деньги с этого приходили совершенно несерьезные, но я сделала вывод, что это довольно справедливое сотрудничество: давать то, что я считаю правильным, тем, кому оно важно/нужно/красиво/полезно — и получать вознаграждение.
Куча иллюстраций для самиздат-журнала в нашем всратом стиле, который тогда еще не был так привычен и популярен, стала заметной замечать. Первый заказчик обратился за коллажами зимой 2016: он хотел иллюстрации для своего нового интернет-журнала про рестораны. Помню, как уточняла: мы делаем вот так всрато и никак иначе — вам точно нада? Мы сотрудничали года полтора и делали всрато.
Новый вывод заключался в том, что существуют заказчики, которые действительно хотят моё «я художник, я так вижу». Также поняла, что я хочу работать только на таких условиях.
Тут я хочу сделать маленькое аналитическое отступление. Тогда мне казалось, что бог или судьба вознаградила меня: благодаря тому, что я долго делала что-то бескорыстно — мне была послана удача. Но сейчас я понимаю, что это магическое мышление от недостатка аналитики. Хотя, конечно, мило и мифологизирует скромность и труд.
Сейчас понимаю, что принципиальными для творческого заработка было:
а) сформировать на себя спрос — то есть обзавестить фан-базой, которая любит твой стиль. Это потенциальные клиенты и показатель, что ты умеешь привлекать аудиторию.
б) твоя фан-база должна попасться на глаза заказчику: тому, у кого есть деньги, чтобы потратить ее на привлечение фанбазы твоим стилем.
К тому моменту у меня уже был тот самый «свой стиль», за счет социальной и профессиональной изоляции не похожий на то, что в то время было популярно. Работа в соцсетях с созданием условно вирального проекта и участие в интернет-медиа с «нашим коллажным лицом» с растущей аудиторией читателей — стали показателем спроса на рынке. Ну и вообще, что-то свежее для тех, кто готов поэкспериментировать.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
24 Mar 2025 09:55
Опыт бедности Ч.1
В серии постов про деньги и в комментариях к ним мы с вами проследили, какие формы бедности были со многими из нас на протяжении последних 30-40 лет: опыт дефицита в разваливающейся экономике СССР, шоковая либерализация цен в начале и девальвация рубля в конце 1990-х, неопределенность и финансовый кризис 2000-х, выпуск с не нужными рынку профессиями, а также новые круги трудностей, связанные с эмиграцией, обесцениванием образования и профессионального опыта.
Мы с вами выяснили, что детство и юность в условиях бедности приводит к определенному комплексу особенностей мышления и эмоциональных реакций. Сейчас я их немного подсуммирую.
Мы привыкаем, что нехватка — это нормальная и единственная реальность. Мы живем в мире дефицита, где единственный способ получить что-то — это отказаться от чего-то другого. Прекрасно экономя, мы можем не понимать концепцию инвестиций, которые качественно меняют ситуацию, поэтому накопление дается долго и тяжело. Или наоборот: мы тратим вс до копейки на то, что может принести эффект сейчас, потому что идея откладывать деньги зажигает лампочку аларма в мозгу: ведь сбережения могут все разом пропасть.
Мы идентифицируемся с бедностью. Пытаясь почувствовать себе «своими» в этом мире, мы рисуем себе достаток как что-то чужеродное, чуждое, что-то «не про нас».
Мы можем морализировать, чтобы попытаться сделать себе комфортнее в наших стесненных обстоятельствах: богатство — для плохих, продажных, злых людей; деньги не сделаешь честным способом. «Они» достойны презрения, сожаления, наказания, «мы» — морально превосходим, «мы» — честные и порядочные. Такая установка приводит нас к слепоте: мы или в упор не видим возможностей увеличить доход, потому что не верим, что это «для нас», или не пользуемся ими из-за стыда и нежелания принадлежать к той самой «плохой» группе людей. Упуская возможности заработать, мы может также избегать ситуаций, которые позволят нам развиться, взять на себя больше ответственности и научиться новому.
Мы привыкаем, что работа может быть только очень тяжелой, а единственный способ увеличить доход — работать еще больше и тяжелее. Мысли о более высокооплачиваемой работе нагребают ужасом и представлением о 16 часовом рабочем дне без выходных: лучше сохранить жизнь и получать мало, чем умереть в погоне за деньгами. Мы перерабатываем и выгораем, а еще соглашаемся на заниженную оплату, потому что не можем оценить себя не то что по достоинству, а просто по рынку.
Мы принимаем, что заработать можно только неинтересным и не подходящим нам образом и всю жизнь разрываемся между необходимостью прокормить семью и невозможностью реализовать свои тайные амбиции. Мы не понимаем, как другим людям удается зарабатывать тем, что им нравится. Мы можем абсолютизировать социальную реальность и везение: «им повезло», а «мне — не повезло» могут становиться окончательными ответами и на все вопросы и точкой в попытках чему-то научиться.
Начав зарабатывать, мы можем уйти в режим берсерка с ощущением, что хорошие времена скоро закончатся, и доводить себя до истощения вместо того, чтобы выставлять приоритет на важном и вкладываться в ту работу, которая приведет не просто к заработку сейчас, но и росту в перспективе. Обладая средствами, мы можем продолжать жить в ощущении «не могу себе позволить» и жаться потратиться на самые необходимые вещи от анализов и стоматологов до своего внешнего вида и социализации на мероприятиях, которые стоят денег. Мы экономим на своем комфорте, выбирая утомительные маршруты, не пользуясь доставкой, стараясь все решить без чужой помощи, бесплатно — не думая о том, что потраченное на экономию время могло бы быть оплачено и принести больше выгоды.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
Настигло
20 Mar 2025 14:35
Я и деньги: поворотный год Ч.2
К 26 годам я уже полностью приняла свой выбор, смирилась с ним и была настроена следовать ему до конца, принимая вместе с въевшейся в голову христианской доктриной, что мучения и всяческая униженность — это просто такая психогигиена, которую нужно терпеть и быть ей благодарной. Из-за этого фона моя работа и мой труд полностью отвязались как от мнения и признания другими людьми, так и от необходимости спроса и оплаты. Я могла трудиться абсолютно свободно по своему желанию, не мучаясь вопросами о своей ценности: мне она была очевидной, потому что не была суто моей. Труд был самоценностью — в этом смысле у меня откуда-то из философии йоги внезапно взялся дух протестантизма, который я никогда не изучала.
Мы основали bojemoi в 2008 году, и к моменту этого самого моего жалкого социального состояния безработной выпускницы у нас были горы проектов: кипы альбомов, бумажек, фанер и холстов, кучи фотосъемок, коллажей, фотокартин, чего только там не было, я уже даже и не помню. Была только одна проблема: делать материальное искусство было для нас слишком дорого. И как раз где-то там под новый 2015 год мы додумались до идеи цифрового коллажа и полностью перешли на него. Так мы стали выкладывать в соцсети не только фотографии, но и картинки. Тогда я еще этого не знала, но это ковыряние в фотошопе на кухне с задорным гыгыканьем над прикольными тулзами изменит мою жизнь.
Я не знала, как это сыграет в будущем, но работала и выкладывала работы регулярно, потому что руководствовалась советом Сальвадора Дали «играть в гения и заиграться», который в принципе объяснил для меня природу социального признания (потом я уже узнала более точный «fake it till you make it»). Самым иллюстративным в этом смысле проектом bojemoi был полуторогодичный артово-просветительский проект: мы каждый день делали и выкладывали по 2 коллажа на тему толстовского сборника афоризмов разных писателей и философов — это почти 1100 картинок в серии. Этот проект иллюстрирует, как я в целом относилась к своей работе (и буду так относиться к ней до конца жизни): делай то, ценность чего не зависит от денежного вознаграждения. (С годами к этому прибавится «но хорошо, когда оплата есть» и затем «труд должен быть оплачен».)
Естественно, что как только я попала в свободное плавание после учебы, то, следуя этому принципу, я сразу же нашла работу — бесплатную, конечно, а вы как думали?
Читать полностью…
Настигло
19 Mar 2025 14:29
Коучинг или психотерапия: что лучше? Ч.2
Я бы сказала, что существует «диффузная зона», когда нельзя на 100% точно ответить на вопрос, что больше подойдет клиенту: психотерапия или коучинг. Это относится к здоровым клиентам, которые чувствуют в себе достаточно сил, которым хотелось бы что-то поменять в жизни и при этом в процессе достаточно глубоко порефлексировать, поисследовать свое мышление и эмоции, и они уверены в своей способности эти эмоции выдерживать.
В таком случае выбор стоит даже не между психотерапией и коучингом в целом, а между направлениями (как именно я хочу себя исследовать?) и даже между специалистами (с кем мне бы хотелось это делать?). Принципиальную разницу тут, пожалуй, составляет фокус: его хочется направить на отношения «прошлое/настоящее» или «настоящее/будущее»? В первом случае ответить на вопросы «почему?» и «как так сложилось?» поможет однозначно именно психотерапия. Во втором — на вопрос «чего я хочу дальше?» и «что мне делать?» лучше ответит коучинг. В психотерапии не так много кто работает с образом будущего и целями, а в коучинге — практически не работают с анализом прошлого (исключения есть и там и там).
Для кого точно коучинг будет лучше, чем психотерапия — так это для людей, которые раздражаются при мысли о «топтании на месте» в разбирании прошлого и чувств. Если хочется действовать и уже сейчас что-то менять — это точно коучинг.
Для людей, которые сталкиваются с затопляющими эмоциями, апатией и паническими атаками, страдают от зависимостей, имеют симптомы ПТСР и кПТСР, находятся в активной фазе ментального расстройства или подозревают у себя какой-либо диагноз, но пока не получили лечения — актуальной будет психотерапия и при необходимости помощь психиатра.
Само наличие травматического опыта, психиатрического диагноза или нейроотличий — не противопоказание для коучинга, просто это не первая ступень работы с такими состояниями. Любой человек с ментальными особенностями, если он скомпенсирован профильными специалистами, адаптирован к жизни, чувствует достаточно сил и контроля для интенсивной работы по постановке и достижению целей — может обращаться к коучу.
Но тут важно понимать, что коучинг не требует никакого специального предыдущего образования, кроме освоения метода. Это значит, что коучем может стать человек с любым бэкграундом — и не обязательно он будет глубоко осведомлен о психологии, психиатрии, нейроотличиях или будет приверженцем научного подхода. Если у него есть международная сертификация, это не повлияет на его работу технически, но отсутствие знаний может ему помешать вам помочь.
Поэтому не удивляйтесь, что некоторые коучи работают только с целями, а некоторые — спокойно берут клиентов с повышенной тревогой, выгоранием, нейроотличиями и сложностями в постановки цели. Это довольно честно со стороны коуча — обозначить границы своей компетентности. Она у нас очень разная.
Читать полностью…
Настигло
18 Mar 2025 15:54
Эмиграция. А потом вторая, третья. В нормальной спокойной ситуации к 35 годам у человека уже накопилась достаточно профессионализма, навыков, заслуг, доверия и социального капитала — только пользуйся этим, иногда даже не задумываясь, как именно всё это работает. Вынужденная эмиграция часто связана не только со сменой страны, среды, языка и культуры — но с опытом разочарования в своих убеждениях, потери прежних надежд, обесценивания своего багажа, который теперь «не работает», и утраты идентичности, которую нужно вырастить заново.
В таком состоянии ко мне обратился М.: 35 лет, вторая страна эмиграции, множество самых разных профессий за спиной — и полное непонимание, как можно увидеть в будущем что-то, кроме черной дыры. Он хотел понять, чего хочет в профессиональном развитии при том, что социальные связи оборвались и нужно с нуля адаптироваться к новому обществу. М. грустил, что так никогда и не ответил на вопрос «кем я хочу стать, когда вырасту». А еще отмечал высокий уровень тревожности, низкую концентрацию и мотивацию и эмоциональный блок, который не позволяет не просто планировать будущее, но и представить его.
У М. было всё, что нужно для решения: огромный и разнообразный опыт, адаптивность пытливый ум, умение учиться и глубокая духовность. Но бывает так, что чем сложнее, интереснее и богаче человек внутренне, тем сложнее ему собрать из этого конструктора то, что будет ощущаться правильным и работать.
На сессиях оказалось, что духовность — важнейшая часть идентичности М. Позволив себе обратиться к своей сердцевине, он смог найти внутри опору сильнее любой внешней. А посмотрев на свой опыт по-новому, открыл уникальность своего подхода к развитию — и смог построить профессиональную стратегию, которая бы не подошла никому, кроме него (и которую никто не смог бы ему посоветовать).
Вот, что М. сделал за 5 сессий коучинга:
🌧Распутал клубок эмоций, определил границы того, что его тревожит, и сформулировал то, что остаётся важным даже в новых условиях.
☁️ Определил ценности, которые должны стать опорой дальнейших выборов, чтобы в жизни чувствовался смысл.
🌥 Осознал важность своей религиозности и необходимость возобновить практики, заброшенные в кризисный период. Связал ценности религии с профессиональным поиском.
⛅️ Нашел внутреннее состояние, которое может противостоять тревоге и апатии. Разработал систему отслеживания ментальных состояний, чтобы придерживаться достигнутого баланса.
🌤 Проанализировал особенности своего профессионального развития и построил гибкий трек развития в новой области. Вместо подхода «выбрать, кем хочу стать» сформулировал для себя подход «выбираю то, что для меня важно делать».
☀️ Смог увидеть вектор своего развития на 5 лет и начал обучаться в выбранном направлении.
Через 3,5 месяца мы провели проверочную сессию, чтобы убедиться, что стремительно достигнутый результат закрепился в жизни М. Клиент рассказал, что он:
🌞 Протестировал план, который оказался достаточно гибким, чтобы оставаться актуальным в непредсказуемых обстоятельствах новой среды, так как он основан на глубинных ценностях и искреннем интересе.
🌞Начал видеть будущее уже на 7-8 лет и планировать свой трек профессионального развития с учетом неопределенности, свойственной эмиграции и состоянию мира.
🌞 Продолжает ощущать тревожность на 3-4 из 10 (по сравнению с 8-9 из 10 на начало работы).
🌞 Благодаря видению своего особого профессионального пути не только нашел мотивацию, успокоение и веру в будущее — но и стал социализироваться в новом обществе через новую подходящую ему идентичность.
Мне особенно нравится, как М. сам подытожил изменение своего мировоззрения: «Раньше я думал, что я — самурай, у которого нет цели. Теперь понял, что у самурая есть цель: быть самураем до конца пути».
Для меня работа с М. была похожа на медитативную прогулку двух практикующих, где каждый шаг приводит ко всё большей осознанности, которая растворяет в себе все препятствия. А ведь казалось, что впереди только тьма.
Читать полностью…
Настигло
12 Mar 2025 16:39
Я и деньги: начало 2010-х ч.1
Мне было 20, я жила в другой стране у парня, который только что выпустился из универа и пробовал себя. Без образования, работы и представления, что я могла бы делать. Нам помогала его мама, врач из госбольницы, и мои бабушка и дедушка пенсионеры.
Эти 2 года были посвящены образованию: искусству, философии, религиям, а еще физической подготовке, духовным практикам и аскезам. Этот ключевой период моей юности дал мне очень много в плане интеллекта и владения собой, но только больше отдалил от заработка. К 21 году мои друзья заканчивали универы, устраивались на работы и тянули друга друга за собой. Я же прервала контакт со всеми настолько резко, что про меня сначала ходили странные слухи, а к 20 бывшие знакомые забыли о том, что я вообще была.
Это был очевидный тупик. Сначала думала про художественные вузы, потому что рисовала. Но посмотрела на станковую живопись российских преподов с березками и куполами и поняла, что не вернусь на курсы рисования из своего детства никогда. Меня не надо было учить быть художницей, и я никого не стала бы слушаться. Идеи учиться за рубежом не было: я была уверена, что это только для тех, кто может заплатить, мне нужен только бюджет. Нагуглила, что есть кинематографический вуз и выбрала киноведение: там точно никто учить творчеству не будет, кроме картин известных режиссеров.
Дома у меня уже не было: моя комната стала комнатой отчима, в другой жила мама с младенцем, мои вещи были рассованы по чердакам и антресолям. Я приехала к бабушке с дедушкой в ту квартиру, где родилась.
Теперь это была уже не детская, а кладовка. Друг на дружке громоздились старые столы с горшками рассады, а под ними складировался хлам в пыльных пакетах. Посреди комнаты дребезжали два советских холодильника с закрутками, в одном углу ютился дедовский компьютерный стол с ламповым монитором («кабинет») и раскладной диванчик. Мне расчистили 2 полки в шкафу (больше вещей и не было). Бабушка и дедушка кормили меня, сдавали прабабушкину однушку в трущобах и с этих денег давали мне на еду в столовке и на проезд. Плюс я получала жидкую стипендию бюджетников.
Холодильники в комнате гудели, из них периодически что-то текло. Иногда я просыпалась в выходной в 7 утра от того, что у меня над головой клацает по работе пробравшийся в комнату дед. В квартире бесконечно громко работал телевизор. У меня не было стабильного рабочего стола, я ходила с кухни в проходную и оттуда за дедов компьютерный стол — где было свободно. Работать над своими проектами дома не получалось. Я старалась проводить как можно больше времени в университете: уезжала в 8 утра и потом сидела после пар в библиотеке до 8 вечера. Жизнь складывалась как-то погано, поэтому когда мне предложили переехать в хрущевку вместо того, чтобы получать на нее деньги, я с радостью согласилась. Так в 22 года я стала жить одна.
Следующие несколько лет я пыталась справиться с отсутствием денег и еды (до сих пор не люблю макароны: ела только только вермишель с маслом). Я пыталась решить задачу заработка, но «зарабатывать» звучало как «слетать на Луну». А еду было понятно, как достать: я ездила за ней по городу, объедая благополучных друзей. Даже поклонники просекали, что я бедствую: мне дарили продукты и пытались завоевать внимание не букетами цветов, а наборами бумаги и красок, потому рисовать было катастрофически не на чем.
Однокурсницы дарили мне свои разбитые телефоны и нелюбимые пижамы, родственницы отдавали старую одежду, у меня были одни штаны и две пары обуви на все сезоны, я доставала с дачной кладовки свои школьные вещи, что-то отрезала, как-то прилаживала — и была вполне красотка!
Я изучала вакансии и не понимала, что в них требуется и где я могу проявить глубину своих знаний и творческий ум. Первое (и единственное) собеседование в жизни было провальным.
[продолжение ⬇️]
Читать полностью…
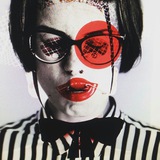
 8879
8879